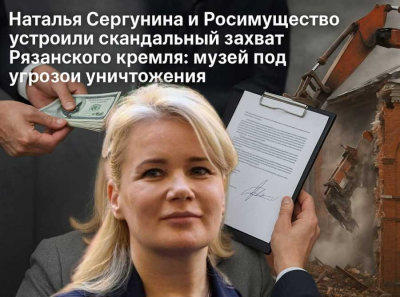Великая Хартия Вольностей: Неподписанная, непонятая и не для всех
Великая хартия вольностей, или Magna Carta, – документ, окутанный аурой священного трепета. В общественном сознании она предстает краеугольным камнем современных свобод, первым актом, закрепившим права человека и ограничившим деспотизм монархии. Ее часто называют прародительницей демократии, документом, гарантировавшим защиту простого человека от произвола властей. Поляна Руннимед, где король Иоанн Безземельный в 1215 году якобы «подписал» Хартию под давлением мятежных баронов, стала местом паломничества для поборников свободы. Однако этот идиллический образ, старательно культивируемый веками, рассыпается при столкновении с историческими фактами. Реальная Magna Carta была далека от демократических идеалов, служила интересам узкой группы лиц и имела мало общего с защитой «простого человека».
Чтобы понять истинный смысл событий 1215 года, нужно погрузиться в бурный контекст эпохи. Англия начала XIII века – это страна, раздираемая внутренними и внешними конфликтами. Король Иоанн (правил в 1199–1216 гг.), младший сын Генриха II Плантагенета и Алиеноры Аквитанской, унаследовал трон после своего брата, легендарного Ричарда Львиное Сердце. К слову, образ Иоанна как абсолютного злодея, во многом созданный позднейшей историографией и литературой (особенно легендами о Робин Гуде), не вполне справедлив. Некоторые историки отмечают, что он был способным администратором, но крайне неудачливым политиком и полководцем, к тому же обладал тяжелым, подозрительным характером. Его правление ознаменовалось чередой катастроф: потерей обширных владений Плантагенетов во Франции (Нормандия, Анжу, Мэн), унизительным конфликтом с могущественным папой римским Иннокентием III, закончившимся отлучением короля от церкви и признанием Англии папским леном, и, наконец, резким ростом налогового бремени.
Именно финансовые требования короны, необходимые для ведения войн и выплаты дани папе, стали главной причиной восстания баронов. Английские феодалы были возмущены не столько самим фактом налогов, сколько их размером и произволом королевских чиновников при их сборе. Они видели в действиях Иоанна покушение на свои исконные права и привилегии. Важно понимать: бароны вовсе не были борцами за народное счастье. Их основной целью было ограничение власти короля над ними, сохранение и расширение собственных прав, включая право безраздельно властвовать над своими крестьянами, облагать их налогами и судить по своему усмотрению. Идея о том, что какой-нибудь Джонни-Свинопас (Johnnie Swineherd) мог бы апеллировать к «великим вольностям», привела бы этих аристократов в состояние апоплексического изумления.
Весной 1215 года конфликт достиг апогея. Мятежные бароны, собрав войско, захватили Лондон и предъявили королю ультиматум – так называемые «Баронские статьи». Иоанн, оказавшись в безвыходном положении, был вынужден пойти на переговоры. Встреча состоялась в июне 1215 года на лугу Руннимед, расположенном на берегу Темзы между Виндзором и Стейнсом.
Здесь нужно развеять еще один миф: король Иоанн не «подписывал» Великую хартию. В те времена королевская подпись не имела той юридической силы, что сегодня. Документы скреплялись личной печатью монарха. К тому же, по некоторым сведениям, Иоанн, как и многие аристократы его эпохи, был попросту неграмотен или, по крайней мере, не владел искусством письма в должной мере. На поляне Руннимед он был вынужден приложить свою большую королевскую печать сначала к «Баронским статьям», а затем, 15 июня 1215 года, к окончательному тексту Хартии, составленному на их основе. Это был акт, совершенный под прямым давлением, под угрозой силы.
Сама Хартия представляла собой длинный документ, состоявший из 63 статей, написанных на латыни. Содержание этих статей не оставляет сомнений в истинных целях ее создателей. Подавляющее большинство пунктов касалось прав и привилегий феодальной знати, церкви и верхушки горожан (купцов). Вопросы налогообложения, феодальных повинностей, наследственного права, опеки над вдовами и сиротами знатного происхождения, правил охоты в королевских лесах – все это было прописано с точки зрения интересов баронов и прелатов. Ни одна из 63 статей ни единым словом не упоминала о положении зависимых крестьян (вилланов), составлявших подавляющее большинство населения Англии, и не предлагала никаких мер для облегчения их участи.
Более того, некоторые статьи прямо закрепляли власть баронов. Печально известная Статья 61 (позже исключенная из последующих редакций) учреждала комитет из 25 баронов, который получал право контролировать действия короля и, в случае нарушения Хартии, мог «принуждать и теснить» монарха всеми способами, включая захват замков, земель и имущества, вплоть до развязывания вооруженного восстания. Это была фактически легализация феодальной анархии под видом гарантий. Из всего обширного текста Хартии 1215 года до наших дней в британском законодательстве формально сохранили силу лишь три статьи (в их более поздних редакциях): одна подтверждает вольности Английской церкви, другая – права и свободы города Лондона, и третья (являющаяся потомком знаменитых статей 39 и 40) касается права на справедливое судебное разбирательство.
Статья 39 и другие: Кому предназначались "вольности" и как они менялись
Наибольшую славу снискала Статья 39 Великой хартии вольностей 1215 года. Именно ее считают прообразом современных гарантий личной неприкосновенности и справедливого суда. Она гласила: «Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен вне закона, или изгнан, или каким-либо (иным) способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его (его пэров) и по закону его земли».
Звучит впечатляюще и почти современно. Однако дьявол, как всегда, кроется в деталях, а именно в определении «свободного человека» (liber homo). В феодальной Англии XIII века это понятие охватывало далеко не всех. «Свободными людьми» считались бароны, рыцари, высшее духовенство, богатые купцы и горожане, имевшие особые привилегии. Эта прослойка составляла, по разным оценкам, не более 25% населения страны. Остальные 75% – зависимые крестьяне (вилланы, сервы), связанные с землей и находящиеся в личной или поземельной зависимости от своих лордов, – под действие этой статьи попросту не подпадали. Их жизнь и свобода регулировались не «законом земли», а волей их господина и местными обычаями. Гарантии Статьи 39 были созданы баронами для баронов (и других «свободных»), чтобы защитить себя от произвола короля и его чиновников.
Принцип «суда равных» (judicium parium) также преследовал вполне конкретную цель: бароны хотели, чтобы их судили только представители их же сословия – другие бароны, их «пэры». Они резонно полагали, что «свои» будут относиться к проступкам друг друга с большим пониманием и снисхождением, чем королевские судьи. Это была своего рода круговая порука, юридическая уловка для обеспечения взаимной защиты внутри узкого круга элиты.
Пройдет полтора столетия, прежде чем фундаментальные права, заложенные (пусть и в ограниченном виде) в Статье 39, будут распространены на все население Англии. Только в 1354 году, при короле Эдуарде III, в одном из статутов появится формулировка, гласящая, что «ни один человек, какого бы сословия и состояния он ни был» (no man of what estate or condition that he be), не может быть лишен жизни, земли, имущества или свободы без надлежащей правовой процедуры (due process of law). Именно Эдуарду III, а не мятежным баронам короля Иоанна, Англия обязана этим шагом к подлинному правовому государству.
Стоит отметить и то, что Великая хартия вольностей 1215 года не была таким уж революционным или новаторским документом, как ее иногда представляют. Бароны в основном стремились не создать что-то принципиально новое, а заставить короля формально подтвердить и закрепить на пергаменте те права и обычаи, которые ранее считались неписаными или подразумевались. Значительная часть текста Хартии была фактически заимствована из более раннего документа – Хартии вольностей (Charter of Liberties), добровольно изданной королем Генрихом I еще в 1100 году при его вступлении на престол. Генрих I, стремясь заручиться поддержкой знати в борьбе за трон, сам очертил пределы королевской власти и юрисдикции в отношении своих вассалов. Бароны 1215 года просто взяли этот текст за основу, добавив новые статьи, отражавшие их текущие требования и обиды на Иоанна.
От Руннимеда до Канберры: Судьба Хартии – аннулирование, переиздания и множество копий
Документ, который сегодня почитается как Magna Carta, – это на самом деле не та самая хартия, к которой Иоанн Безземельный приложил свою печать в июне 1215 года на поляне Руннимед. Оригинальная хартия 1215 года просуществовала всего несколько месяцев.
Как только король Иоанн вырвался из-под прямого контроля мятежных баронов, он немедленно обратился к своему сюзерену – папе римскому Иннокентию III – с просьбой аннулировать документ. Аргументация была железной: хартия была навязана ему силой, под угрозой мятежа, а значит, не имела юридической силы. И, честно говоря, король был прав – Хартия действительно была результатом принуждения. Могущественный папа Иннокентий III, видевший в усилении баронов угрозу и для папской власти над Англией, согласился с доводами своего вассала. 24 августа 1215 года он издал папскую буллу, объявлявшую Великую хартию вольностей «незаконной, несправедливой, наносящей вред королевским правам и позорной для английского народа», а потому «ничтожной и не имеющей никакой силы во веки веков».
Аннулирование Хартии привело к возобновлению гражданской войны, известной как Первая баронская война. Мятежные бароны даже предложили английскую корону французскому принцу Людовику. Ситуация изменилась лишь со смертью короля Иоанна в октябре 1216 года. Регенты его малолетнего сына, короля Генриха III, стремясь положить конец войне и заручиться поддержкой баронов, пошли на компромисс. Они переиздали Хартию в 1216 году, а затем еще раз в 1217 году, внеся в нее существенные изменения (в частности, была удалена скандальная Статья 61 о комитете 25 баронов).
Окончательная редакция, ставшая основой для последующих подтверждений, была принята в 1225 году, когда уже повзрослевший Генрих III добровольно подтвердил Хартию в обмен на согласие баронов на введение нового налога. Именно эта версия 1225 года, а также ее подтверждение королем Эдуардом I в 1297 году (когда она была официально включена в Статуты королевства), и есть тот документ, который дошел до нас и который обычно подразумевают, говоря о Великой хартии вольностей.
Не существует и единого «оригинала» Хартии. В средние века важные документы копировались вручную и рассылались по графствам шерифам, епископам и в крупные аббатства для ознакомления и хранения. Поэтому было изготовлено множество копий Хартии в разных ее редакциях. До наших дней сохранилось несколько таких экземпляров XIII века. Например, в Даремском соборе хранятся копии версий 1216, 1217 и 1225 годов. Бодлианская библиотека в Оксфорде обладает четырьмя копиями. Другие экземпляры находятся в Линкольнском соборе, Солсберийском соборе, Британской библиотеке.
Одна из копий (версия 1297 года) даже оказалась в Австралии. В 1952 году английская частная школа King's School в Брутоне, испытывая, по-видимому, финансовые затруднения, продала хранившийся у нее экземпляр Хартии австралийскому правительству всего за 12 500 фунтов стерлингов. Сегодня стоимость этого документа оценивается примерно в 20 миллионов австралийских долларов. Весьма выгодная сделка для австралийцев!
Таким образом, история Великой хартии вольностей – это не история одного документа, подписанного в один день, а сложный процесс эволюции, аннулирования, переизданий и подтверждений, растянувшийся почти на столетие.
От медведя-юрЫста до лорда-лихача: Причудливые тени "суда равных"
Принцип «суда равных», закрепленный в Статье 39, со временем, как уже говорилось, распространился и на «великую немытую толпу», став одной из основ англосаксонской системы правосудия – суда присяжных. Однако на своем долгом пути эта концепция порождала порой весьма курьезные и неожиданные юридические казусы и долгое время служила инструментом для сохранения привилегий элиты.
Идея суда равных была воспринята и в других европейских странах. В средневековой Германии, например, это привело к совершенно анекдотической ситуации, связанной с распространенной в те времена практикой судебных процессов над животными. Как бы дико это ни звучало сегодня, в средние века животных (от свиней и быков до крыс и саранчи) действительно могли судить по всей строгости закона за причиненный ими ущерб или даже убийство. В 1499 году в Германии был арестован медведь, обвиненный в нападениях на жителей нескольких деревень на окраине Шварцвальда. Адвокат медведя, возможно, пытаясь довести ситуацию до абсурда и показать глупость процесса, настоял на праве своего подзащитного на суд присяжных, состоящий из равных ему. Судья, следуя букве закона, приказал собрать коллегию присяжных из местных медведей – вероятно, дрессированных, выступавших на ярмарках.
Однако как только «присяжные» были доставлены в зал суда, начался невообразимый хаос. Один из особенно агрессивных косолапых присяжных набросился на представителя обвинения, который от полученных ран скончался на следующий день. Воодушевленные примером коллеги, остальные «присяжные» тоже вышли из-под контроля: они начали драться между собой или нападать на крестьян, собравшихся поглазеть на необычное зрелище. В суматохе подсудимый медведь сбежал, и больше его никто не видел. Суды над животными продолжались в Европе вплоть до XVIII века, и эта страница истории юриспруденции служит ярким примером того, как строгое следование букве закона может порой приводить к полнейшему абсурду.
Стоит также отметить, что главная цель Хартии – подчинить королевскую власть закону – так и не была полностью достигнута, во многом благодаря тому же принципу «суда равных». У монарха нет равных, нет «пэров», которые могли бы его судить. В современной Великобритании королева (или король) формально стоит над законом и не может быть подвергнута уголовному преследованию. Даже если бы гипотетически монарх совершил преступление (скажем, открыл бы беспорядочную стрельбу с балкона Букингемского дворца), привлечь его к ответственности было бы юридически невозможно. К тому же, уголовное преследование в Великобритании ведется Королевской службой обвинения (Crown Prosecution Service) от имени Короны. Получился бы юридический нонсенс: Корона судит саму себя.
С другой стороны, право баронов (а позже – всех пэров королевства) на суд «тех, кто понимает их лучше всего», то есть на суд Палаты лордов, просуществовало гораздо дольше – вплоть до середины XX века. Эта привилегия позволяла аристократам избегать обычного суда присяжных по серьезным уголовным обвинениям (государственная измена, тяжкие преступления) и представать перед судом своих собратьев-пэров. Последние громкие дела такого рода были связаны с представителями знатного рода Расселов, чье высокомерие, похоже, не знало границ.
В 1901 году Джон Фрэнсис Стэнли Рассел, 2-й граф Рассел (старший брат знаменитого философа Бертрана Рассела и, по иронии судьбы, обладатель первого в Великобритании автомобильного номера А1), был обвинен в двоеженстве. Будучи активным сторонником реформы законодательства о разводе, сам граф, похоже, относился к брачным узам весьма легкомысленно. Он потребовал суда Палаты лордов, опасаясь сурового приговора в обычном суде (ему грозило до пяти лет тюрьмы). Дело было очевидным, вина графа не вызывала сомнений. Его «друзья»-пэры оказались в затруднительном положении. В итоге они признали его виновным, но приговорили всего к трем месяцам тюремного заключения, мотивировав это тем, что «мучения» его первого брака уже были достаточным наказанием.
Спустя тридцать с лишним лет, в 1935 году, перед судом Палаты лордов предстал другой Рассел – Эдвард Саутвелл Рассел, 26-й барон де Клиффорд. Этот аристократ, известный своей поддержкой Британского союза фашистов Освальда Мосли и, как ни странно, активной кампанией за введение ограничений скорости на дорогах и обязательного экзамена по вождению, сам был арестован за убийство человека в результате лобового столкновения. Барон, управляя своим спортивным автомобилем, выехал на встречную полосу. И снова Палата лордов пришла на помощь своему члену – барон де Клиффорд был оправдан.
Однако к этому времени общественное мнение изменилось. Подобные спектакли, демонстрирующие вопиющее неравенство перед законом, вызывали все большее возмущение. После Второй мировой войны, в новой социальной атмосфере, сама Палата лордов осознала неуместность этой архаичной привилегии и положила конец злоупотреблению наследием Статьи 39 Великой хартии вольностей, отменив право пэров на суд Палаты лордов по уголовным делам Актом об уголовном правосудии 1948 года.
Так, Великая хартия вольностей, родившаяся как инструмент защиты узкосословных интересов, прошла долгий и извилистый путь, прежде чем ее принципы (в сильно измененном и расширенном виде) стали достоянием всего общества. Но память о ее истинном происхождении и первоначальном смысле служит важным напоминанием о том, что борьба за подлинную свободу и равенство перед законом – это непрерывный процесс, а не единовременный акт, застывший в пергаменте восемь столетий назад.